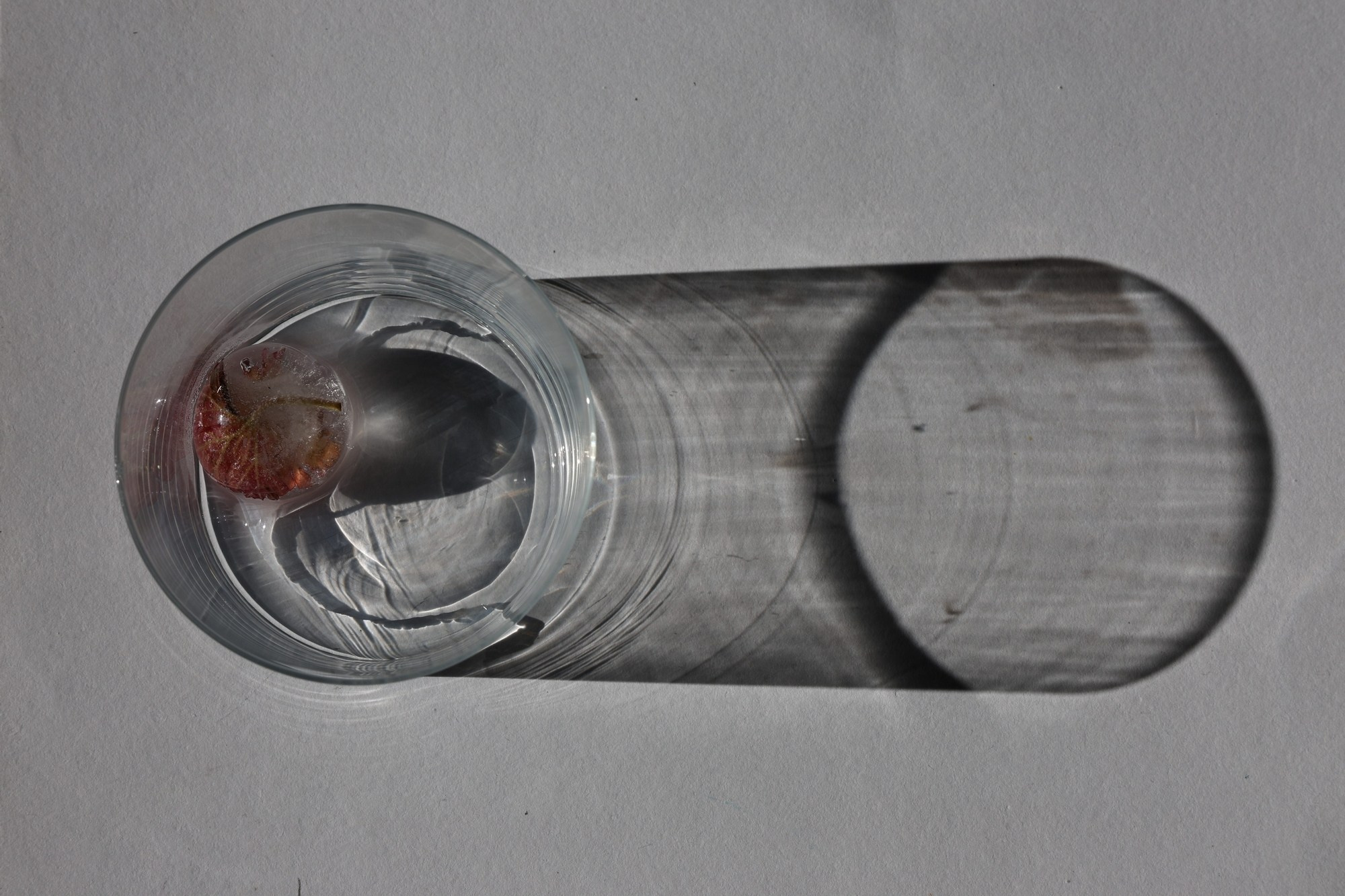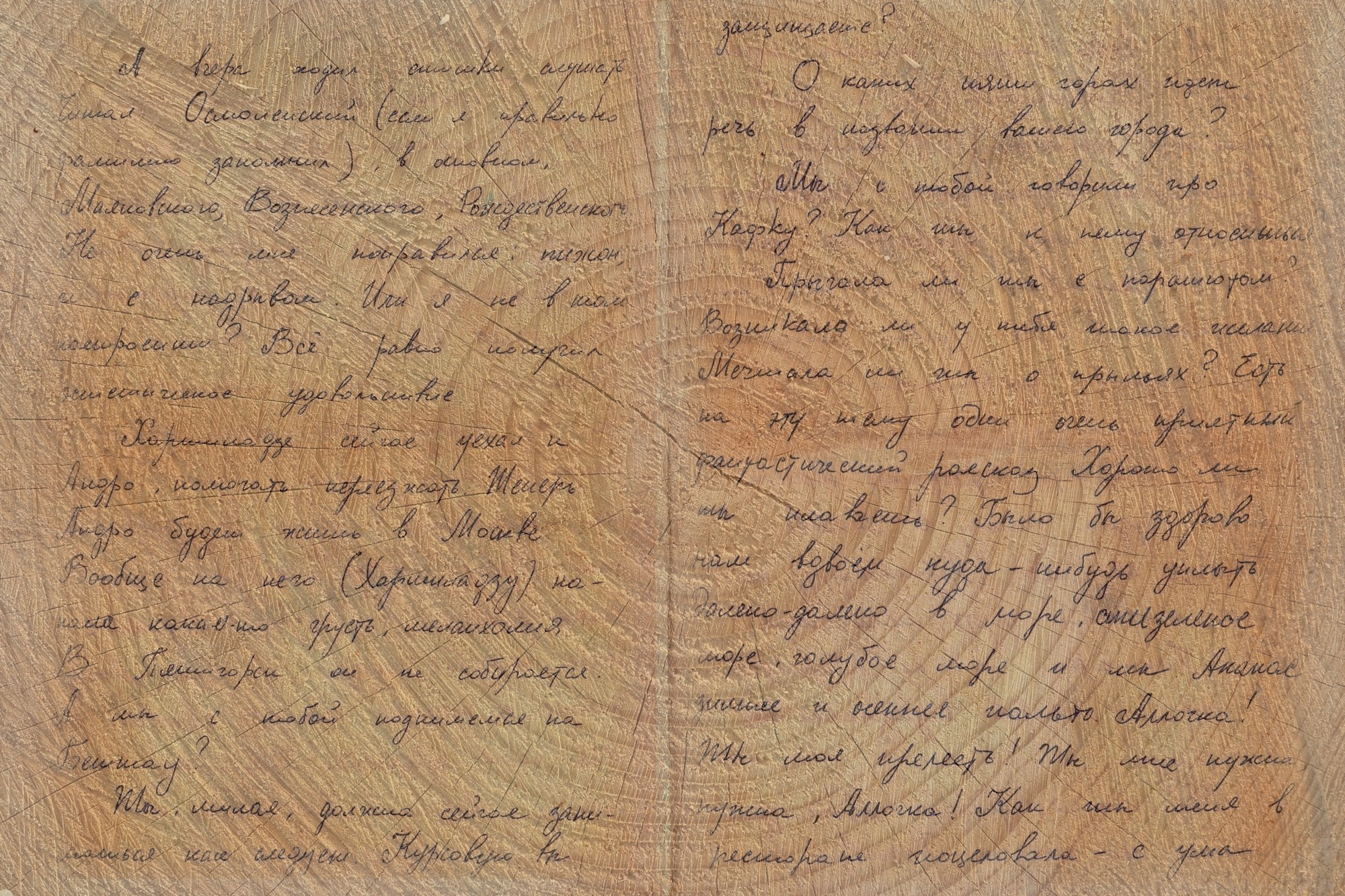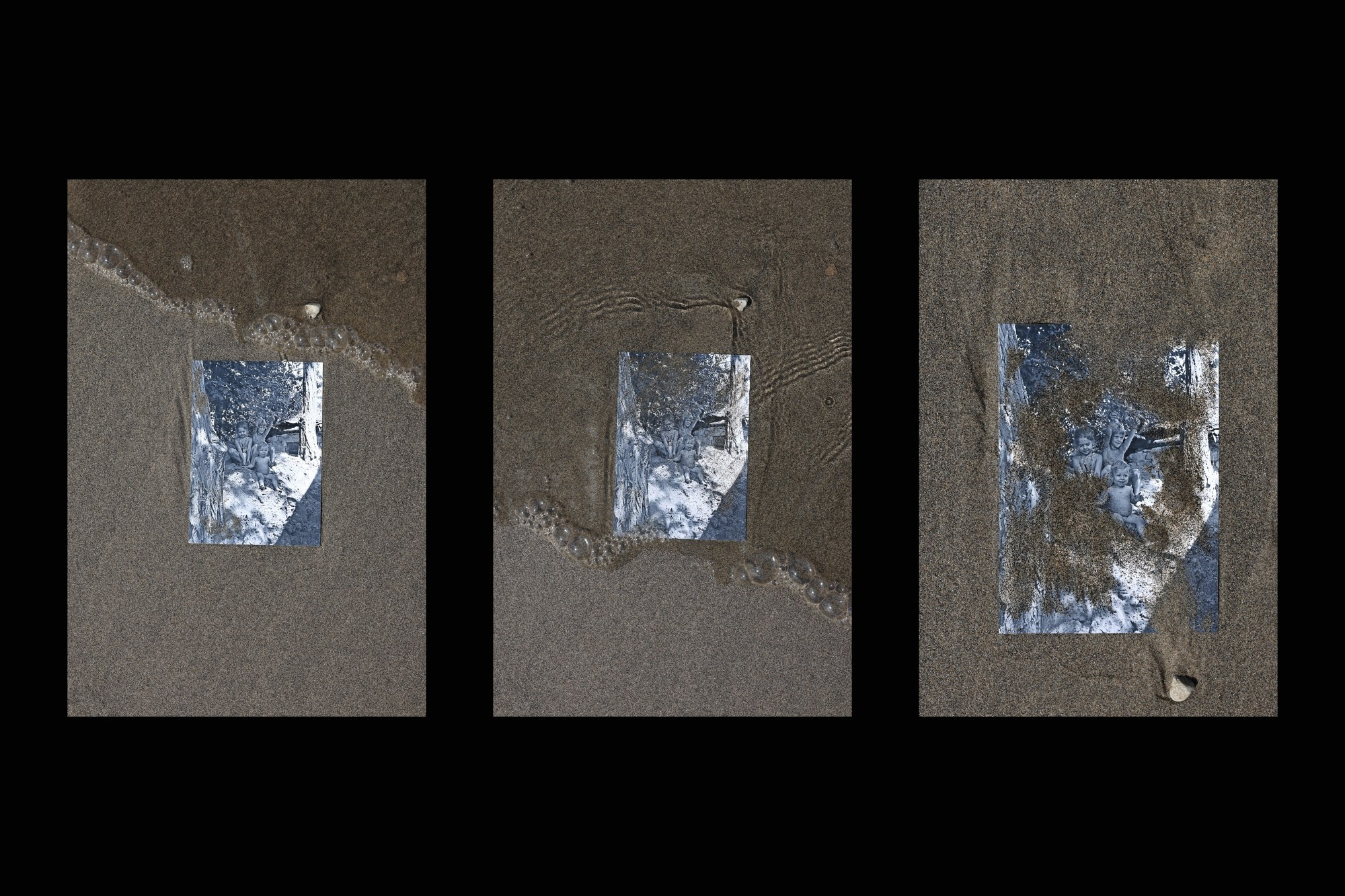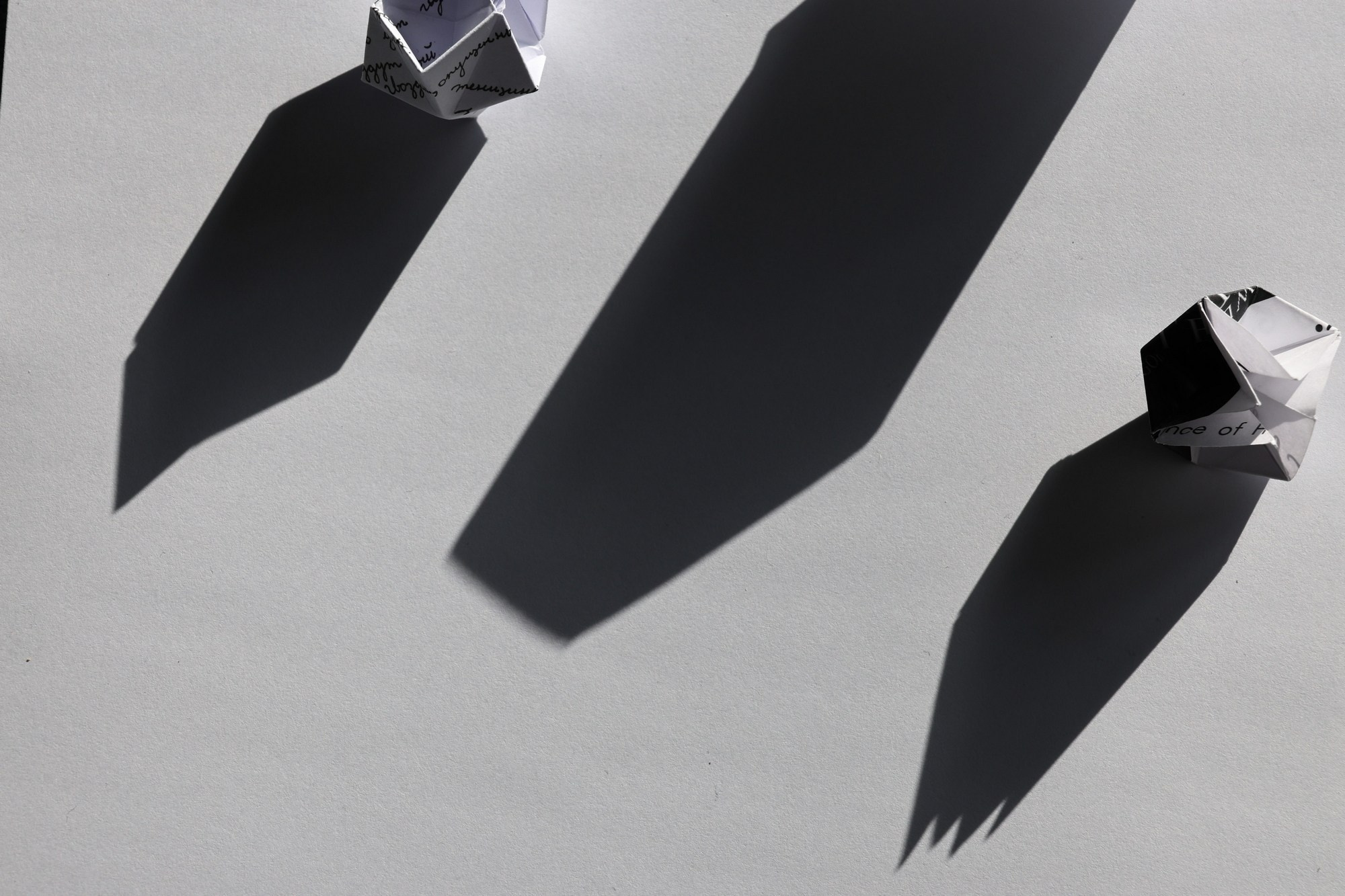Они продолжают гулять внутри моего сердца

Это проект о семье и одиночестве, о жизни и смерти, о молчании и дистанции, которые создают эмоциональную травму и определяют наше будущее.
Когда мне было 10 лет, мы (папа, брат
Гриша, которому было 8, брат Ваня, которому было 5, и я) разбились на
машине, Гриша умер мгновенно, а папа через несколько недель. Моя старшая
сестра Мари (ей был 21 год) приехала на год, чтобы жить с Алёшей
(которому было 20) и мной, пока мама лечила Ваню в Москве.
Об аварии
и о том, что было после неё, мы никогда не разговаривали. Каждый
переживал последствия смерти близких в одиночестве, на кого-то это
влияло сильнее, на кого-то легче, но часть каждого из нас осталась
заперта в том снежном дне, 8 ноября, когда мы узнали, что Гриша умер.
Всю
мою жизнь я думала, что у меня не осталось воспоминаний о детстве, и не
упоминала аварию и её последствия для меня. Я открыла этот сундук
Пандоры в личной терапии, смогла принять, как события тех лет повлияли
на формирование моей личности, и тогда же начала работать с
воспоминаниями и записывать их.
Что касается Мари, Вани, нашей мамы и меня, в этом году мы, наконец,
начали семейную терапию, и впервые стали делиться болью и
воспоминаниями, одиночеством и страхом.
Этот
проект отражает мои личные воспоминания, одиночество и страх, которые я
испытывала, пока росла. Он дополнен историями моих родных, которые я
услышала по время терапии. Я попыталась переосмыслить идею семьи и дома,
на основе общих воспоминаний, архивных фотографий и писем, и, хотя этот проект наполнен одиночеством, печалью и страхом, я создавала его как символ надежды для всех тех, кто переживает утрату и боль. Потому что боль конечна, и хотя мы можем наносить раны, мы можем их исцелять тоже.
Я хочу посвятить этот проект покинутому внутреннему ребёнку, который живёт во многих из нас, в качестве подарка и надежды: малышка, ты не одна, я с тобой, и я всегда буду рядом, что бы ни случилось.

Мне почти 10 лет.
Я лежу в палате
после аварии и не знаю, где мама и папа, когда за мной придут, сколько я буду в
больнице.
Мне должно
исполниться десять лет через три дня, 10 ноября. Где-то в глубине души я уже
знаю: раз молчат, кто-то умер. Только бы не папа.
Если сказать, что кто-то умер, вслух, можно обмануть судьбу: не могу же я быть права.
Ночью, в больнице, пока все спят, я повторяю про себя эти слова.
В разных вариациях, я буду повторять их всю последующую жизнь.




Мама приходит
забрать меня из больницы. Я помню не образы, а знание: мама не смотрит на меня,
не разговаривает со мной, ничего не объясняет.
Мне так страшно,
что я спрашиваю, кто умер, а потом, отметим ли мы мой день рождения. Мама очень
сердится, а во мне на годы поселяется ощущение собственной неправильности: я
чувствую себя чудовищем, раз спрашиваю, раз чувствую не так, как надо.
Я не понимаю, что
происходит, почему мама так далеко.
Очень липкая
тревога поселяется в животе.
С тех пор я знаю: когда не смотрят и не разговаривают, это значит, смерть уже рядом.
Дома незнакомые и малознакомые люди. Дома пахнет кислым, опасным, чужим. Какая-то женщина из театра стирает Гришину куртку и говорит, что специально оставила на капюшоне пятна крови, потому что так лучше. Мне хочется сказать ей, что она глупая и ничего не понимает.
Колючая тревога
жмется к ногам.
С тех пор
безопасность, дом и семья становятся недоступным идеалом.
Проходит
несколько часов, недель или дней. Я по-прежнему ничего не чувствую, кроме
тревоги и ожидания. Я не плачу. Я смотрю на людей вокруг, как будто издалека,
они кажутся маленькими. Я жду, что придёт мама, обнимет и объяснит, что
происходит. Тогда можно будет расслабиться и заплакать.
Но мама не
приходит.
Я буду всегда приходить к моей дочери. Но другие важные люди, партнёры, которых я выбираю, станут повторять знакомые страхи: я жду и тревожусь, они не приходят и не разговаривают, а страх и смерть накатывают душной волной.

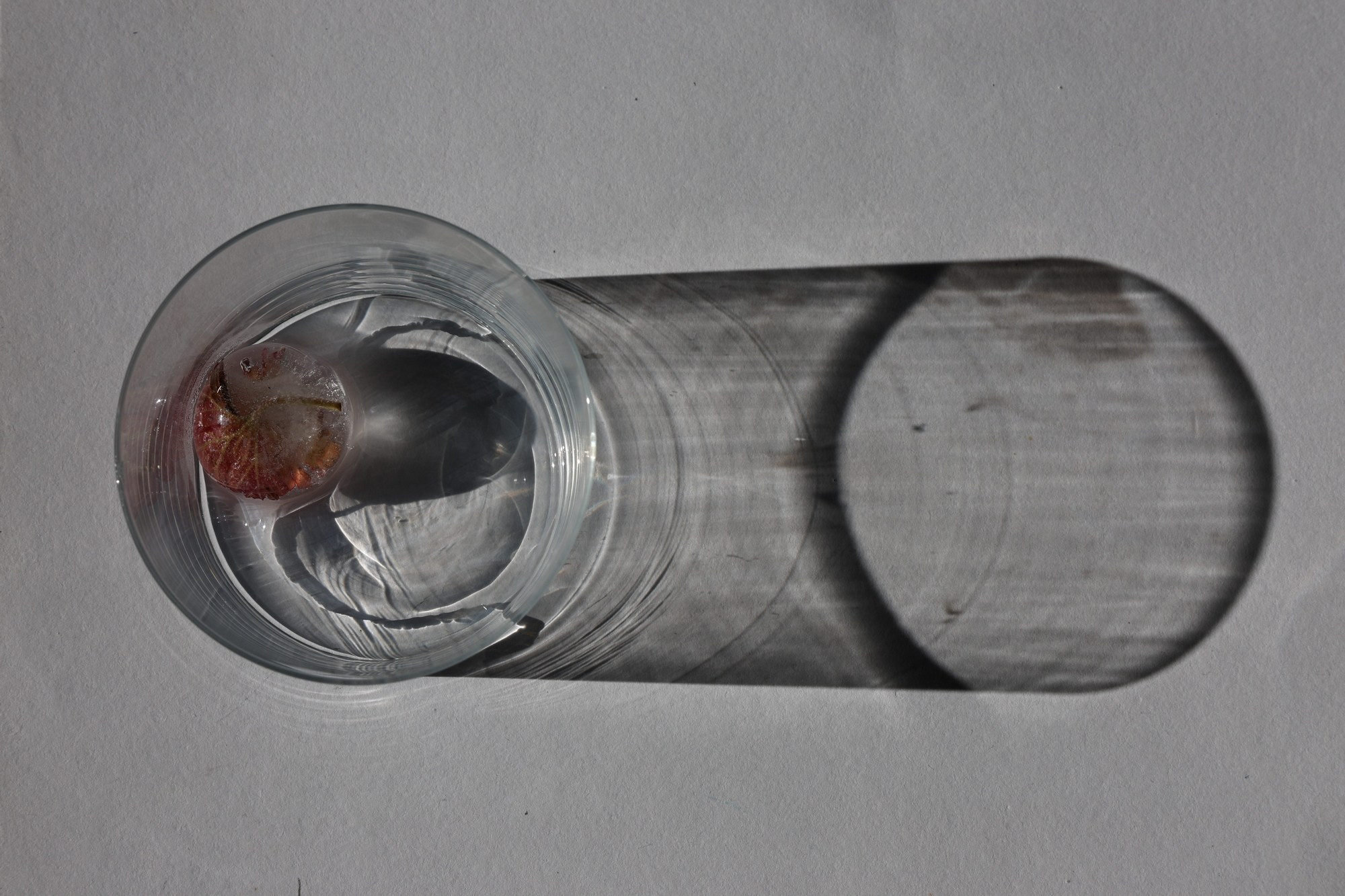
Я не помню, что было потом. Я очень быстро учусь уходить и забывать. Если уйти, это будет происходить не со мной.
На терапии мама и сестра рассказывают, что первые дни мы спали обнявшись все вместе на полу, потому что никто не мог оставаться в одиночестве. У меня не осталось этих воспоминаний.


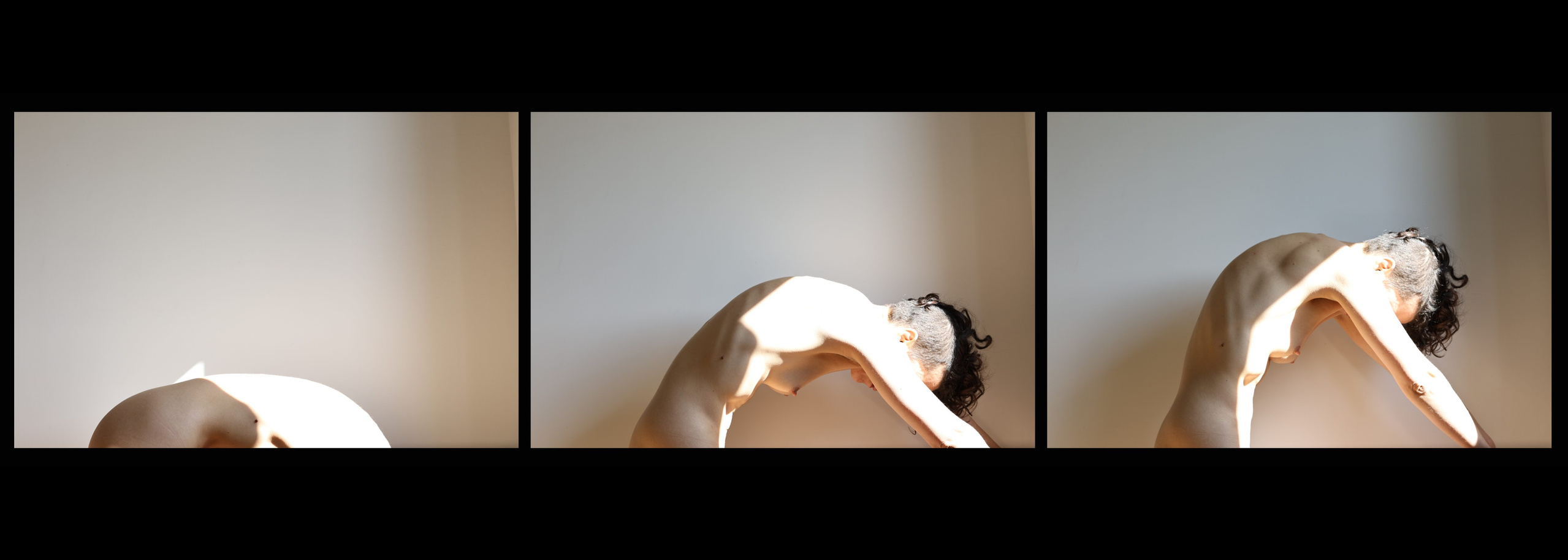
Через несколько
недель нам сообщили, что папа умер. Его привезли домой, положили в гостиной.
Какие-то люди спросили, хочу ли я к нему пойти. Я ответила, что нет.
Я знала, если не
ходить и не смотреть, можно поверить, что там какой-то другой человек, а мой
папа пропал, исчез. Значит, его можно будет найти. Я снова пытаюсь договориться
с судьбой.
На терапии сестра расскажет, как она думала так же про Гришу: что он не мог умереть, что он, наверное, заблудился, замёрз, он где-то ходит один в снегу и нужно скорее его найти.


Я не помню, была ли в тот год ёлка. Я помню только белый снег и зелёные лапы елей: это значило, кто-то умер, и будут гвоздики, опущенные вниз лица, женщины с потёкшей тушью, разговоры про жалость, чоканье стопок, запах алкоголя и чувство потери.
Только на терапии я услышу маму: мы потеряли Гришу, а Гриша потерял всю жизнь. Он даже не видел моря. Он так и не увидел моря.
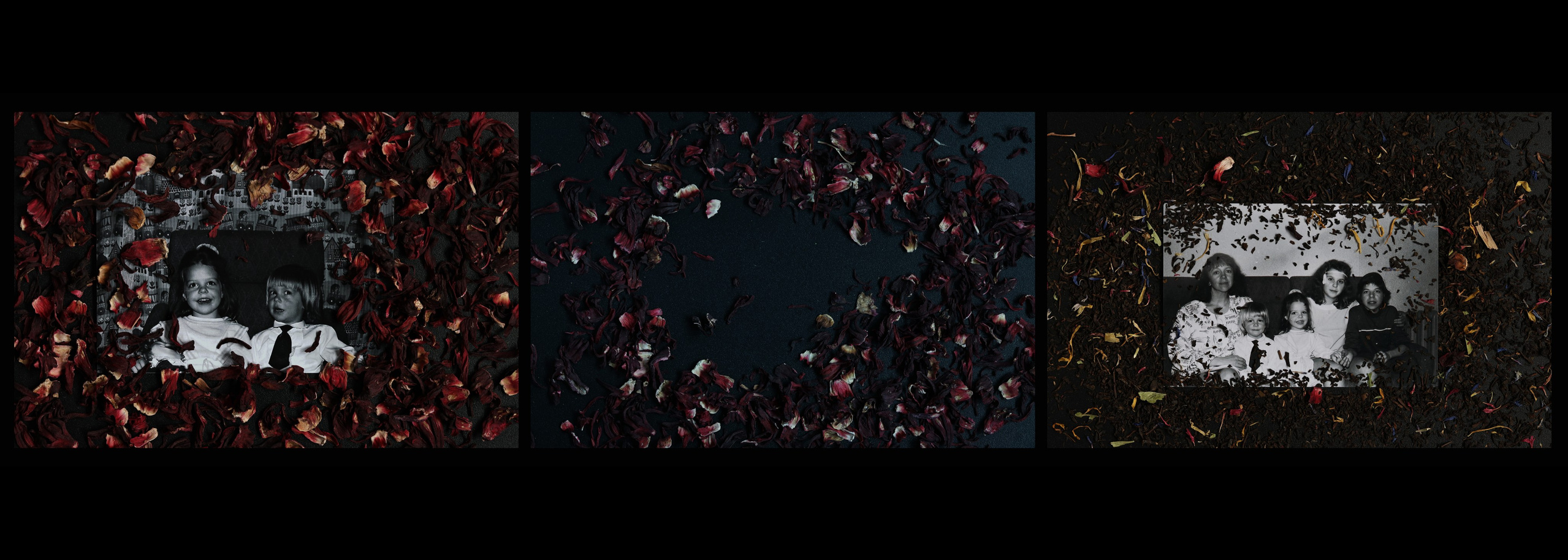
Зимой Ваню, младшего брата, впервые привозят домой. После комы он не разговаривает, плохо ходит и кажется очень маленьким. Мне говорят, что он ничего не помнит. Тоже. Мне очень его жаль.
Мама будет опекать и защищать Ваню всю его жизнь, потому что страх потерять ещё одного ребёнка останется с ней навсегда.


Через полгода, поздней весной, я первый раз плачу, когда достаю из шкафа и пересматриваю книги: я вспоминаю Гришу и папу и очень по ним скучаю.
Все выходные и каникулы я провожу в библиотеке: там больше книг, чем дома, где пишут про смешное и радостное. Если много-много читать, можно научиться исчезать из этого мира.
На терапии мама потом расскажет, что она тоже исчезала в книгах, а ещё в алкоголе, потому что её боль была невыносимой. Она видела сломанного покорёженного Ваню, видела мои сапоги наполненные кусками стекла из машины, она уходила кричать в лес около больницы и хотела уйти вслед за Гришей.


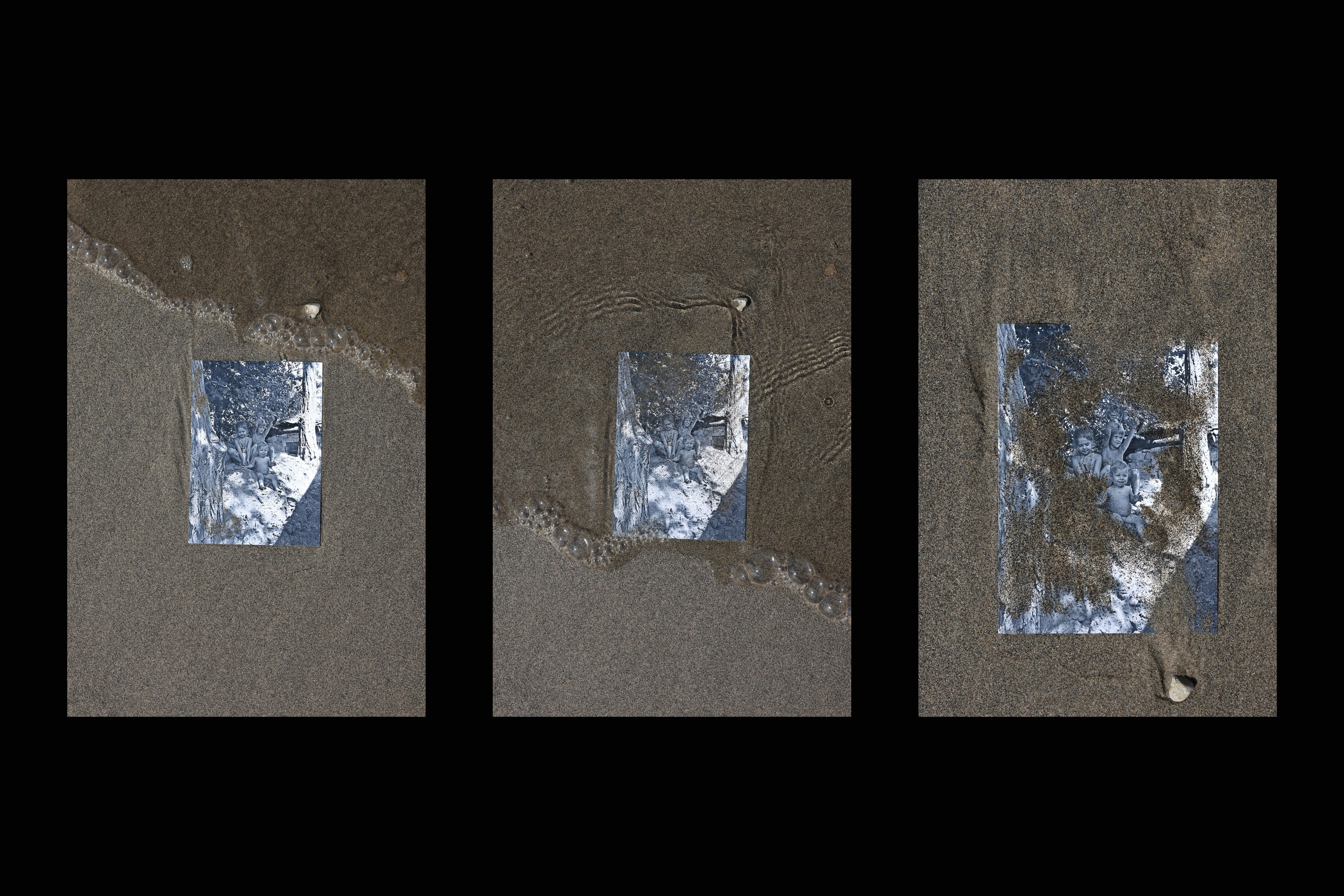
Я хорошо умею
исчезать: достаточно удалиться, выйти из тела, уйти далеко-далеко, чтобы
наблюдать, как всё происходит с кем-то другим. Я ухожу из себя, когда приезжает
мама и говорит специальным трагичным голосом про Гришу. Я ухожу из себя, когда
на меня кричат или случается что-то плохое.
Я учусь забывать.
Я вижу сны только
от третьего лица. Особенно те, в которых я бесконечно ищу и почти нахожу папу.
Я сохраняю
воспоминания, как будто они происходят с кем-то другим.
У меня не остаётся воспоминаний о детстве и аварии, в которых я бы участвовала, пока, через 26 лет, я не работаю с этим напрямую в терапии.

Я почти не вижу снов, кроме повторяющихся кошмаров, в которых я ищу папу: я искала его годами, сквозь время, расстояния, измерения, пока не появилась моя дочь, представляя все возможные и невозможные способы его вернуть. Я была уверена, что, если не в этом измерении, то в других его точно можно найти, нужно только понять как.
Я так старалась понять, объяснить, найти в переплетении нитей судьбы смысл, отыскать в них путь к папе и к утраченному дому, что начала видеть связи, интерпретировать смыслы, чувствовать числа.
Они обретали смысл: числа на обратной стороне тетради, номер
троллейбуса, остатки этикетки на воротничке - они соединялись, выстраивались в
логические связи, пытались что-то донести.
Ещё чуть-чуть, и я смогла бы понять
глубинное значение происходящего, но связи уже говорили со мной на уровне
каждого дня: если…то…



Мне 13.
Я уже
умею отстраняться и забывать, что бы ни происходило вокруг. Я абсолютно точно
знаю, что на меня всегда кто-то смотрит, чувствую их взгляды и живу, осознавая,
что каждый мой шаг, даже за задёрнутыми шторами или в ванной, у кого-то на
виду. Я вижу логику и красивую симметричность цифр, событий и букв, которые
кажутся другим людям случайными. Я чувствую дыхание смерти: она всегда со мной,
на расстоянии вытянутой руки.
Другие люди этого
не понимают, закрывают глаза, чтобы не видеть,
но мы с ней знаем - она рядом.

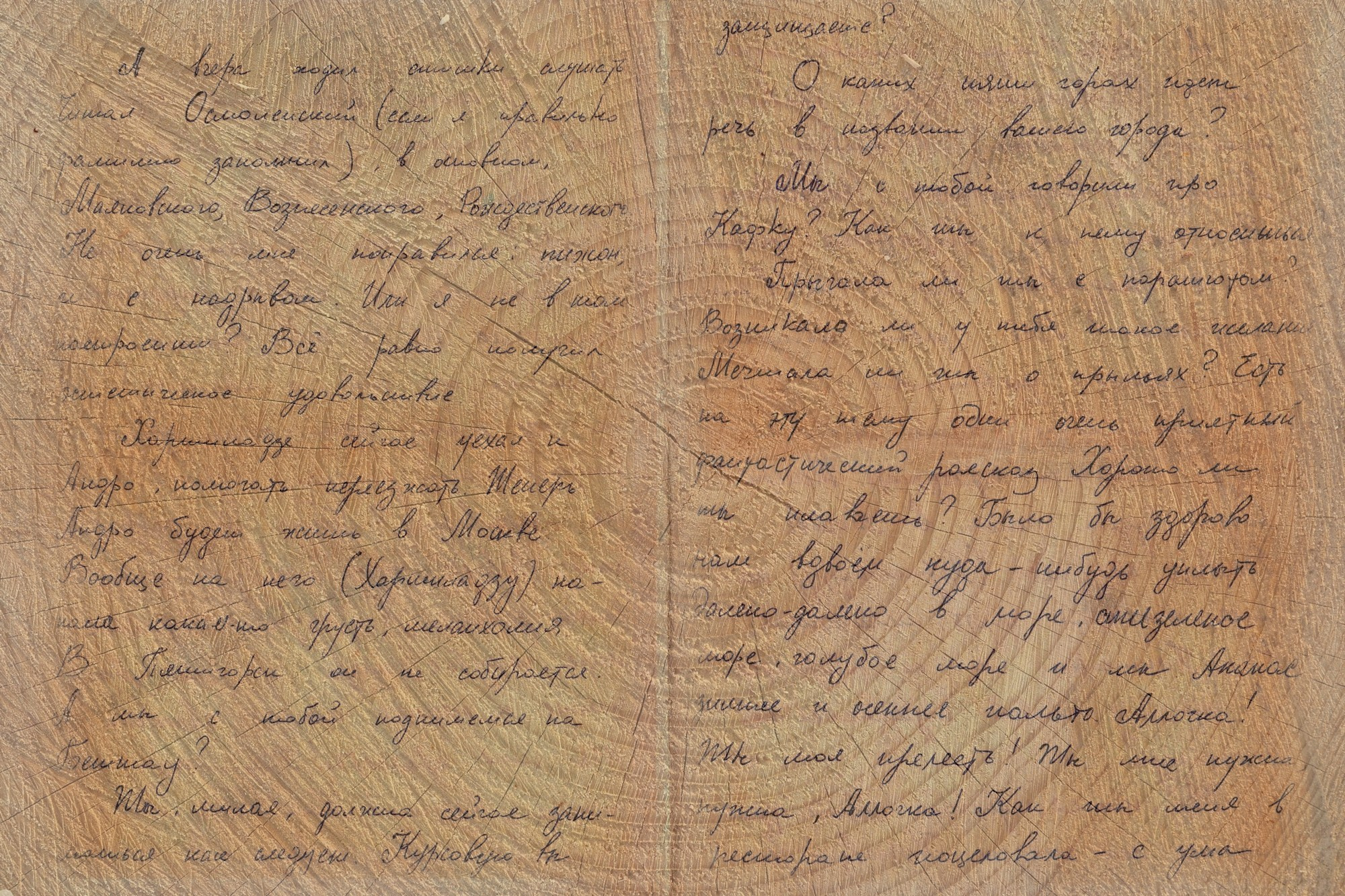
Мне кажется, у нас дома алтарь Гриши, а из него сделали святого, хотя
при жизнь его постоянно ругали и наказывали. Мама говорит «Гришенька»,
«Гришуля», а у меня подкатывает тошнотворный ком к горлу: в Ване
осталось отражение Гриши, он мальчик, у него светлые волосы и такие же
глаза, а я всегда не такая и неправильная. Я ухожу далеко в такие
моменты и старательно их забываю. Это не страшно.
Страшно, когда мама приводит домой незнакомого мальчика, который
побирался на улице, узнает его адрес, имя. Он тоже светленький, жалкий, мне очень страшно и стыдно смотреть, как мама с ним разговаривает. Это неправильно, ведь мы твои дети, вернись к нам!
Мама не возвращается.


Мне 15.
Я уже
резала руки бритвой, просто так, не от боли, потому что боли нет, точнее, боль
на коже даёт возможность почувствовать что-то телом. Я смотрю на тонкие красные
полоски издалека, отстранённо, и кажется забавным, как много люди делают из
этого драмы.
Смерть с любопытством смотрит рядом. Она знает, что через несколько лет я научусь переправлять внутреннюю боль в физическую и это станет единственным способом совладать с ней.
Я абсолютно точно знаю, что никому нельзя доверять: любовь, деньги, секреты, уязвимость, нежность. Люди пропадают, исчезают, обманывают. «Это небезопасно» - не просто слова, а код, зашитый в каждую клеточку моего тела: я читаю все книги, какими бы романтическими и нереальными они ни были, через фокус «как выжить и подготовиться ко всему».

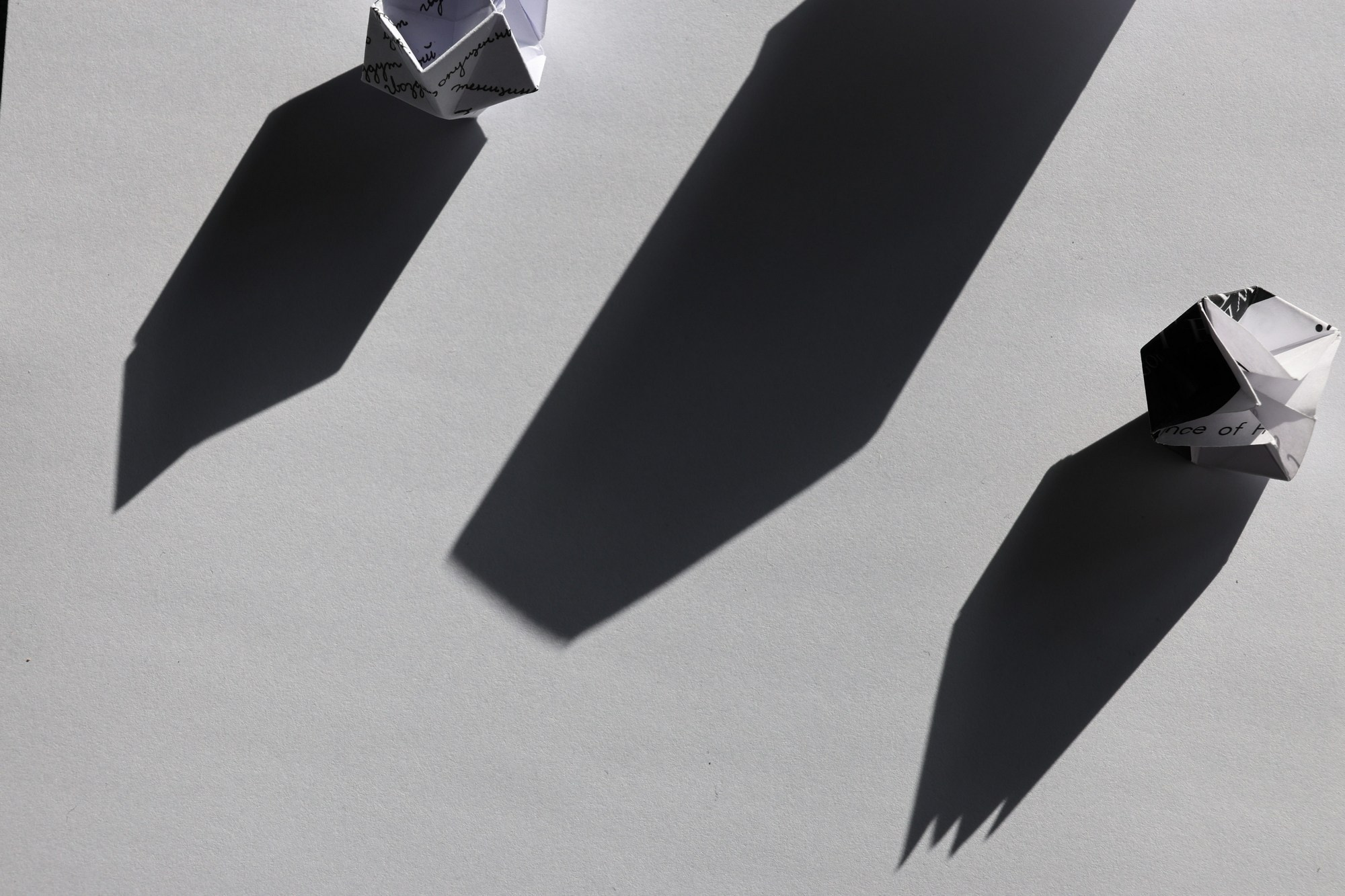




Я абсолютно точно
знаю, что все умрут. Что любой человек может исчезнуть. Отдаваться чему-то всей
душой - опасно. Привязываться - невыносимо. При первой же трудности надо уходить,
иначе сломаешься, как мама сломалась после аварии.
Я думаю, что
будет, если близкие люди умрут. Представляю это в мельчайших подробностях: что
делать, куда идти, как изменится жизнь. Я пишу им прощальные письма.
Когда я начинаю думать о моих детях, я представляю их смерть раньше, чем их рождение. Выкидыш. Мёртворожденный. Умерший в младенчестве. Умерший через несколько лет. Я представляю это снова и снова, пока не приходит осознание, что я с этим справлюсь.


Мне 16.
Я люблю синий
цвет, небо перед грозой, стихи Серебряного века. Я боюсь открытых пространств,
носить платье и когда вокруг много людей, но никогда не говорю и даже не думаю
«я боюсь», просто избегаю этого.
Мне понадобится ещё 20 лет, чтобы
научиться видеть мой страх, признавать его и говорить о нём.
Я уверена, что у меня было идеальное детство, что авария на меня совсем не подействовала, что у меня прекрасные отношения с мамой и нет никаких проблем в семье. Я никому не рассказываю про аварию, про Алёшу, про папу и Гришу, никогда. Я по-прежнему ищу папу во снах и просыпаюсь с беззвучным криком, когда бесконечно падаю в пустоту или чувствую, как распадается моё тело и один за другим выпадают зубы.




Я никогда не
думаю о моей семье как о семье, это просто мама, Мари, Ваня.
Я избегаю
близости и не могу выразить словами ревность,
неуверенность, желание поддержки или стабильных отношений. Или любые другие
эмоциональные потребности.
Я легко влюбляюсь и ещё легче ухожу из отношений любого рода, в которых появляется угроза независимости, неудобство или трудность. У меня много свободы, я хорошо учусь, мне кажется, мама меня ни в чём не ограничивает, и это хорошо. Я ощущаю себя более взрослой и рациональной, чем большинство взрослых рядом.
Я по-прежнему часто ухожу из себя и не могу сказать «нет», потому что нужно быть хорошей, потому что небезопасно, потому что я живу в непредсказуемом и опасном мире, где нет взрослых, чтобы защитить: когда меня трогают в автобусе, когда делают что-то неприятное с мои телом, когда меня изнасиловали, я просто уходила и смотрела издалека, сверху и слева, как это случалось.
А потом училась забывать.





Проходят годы. Я выращиваю собственного заботливого взрослого. Я ращу дочь и учусь быть той мамой, которой у меня не было. Я начинаю терапию. Уезжаю на другой континент. Начинаю другую терапию. Восстанавливаю отношения с родными. Учусь видеть и защищать внутреннего ребёнка. Снова меняю страну.
Встречаюсь после многих лет с мамой, сестрой, братом, и мы начинаем терапию, все вместе, чтобы впервые в жизни открыться и показать наши раны, попрощаться с нашими мёртвыми, оплакать то, чего нет, и постараться увидеть нас настоящих.


Мы всё ещё учимся слушать, отвечая поддержкой, и ищем путь навстречу друг другу через все эти годы. Мы знаем, это долгий путь, но теперь у нас есть надежда, теперь мы умеем освещать темноту, теперь мы чувствуем себя семьёй.